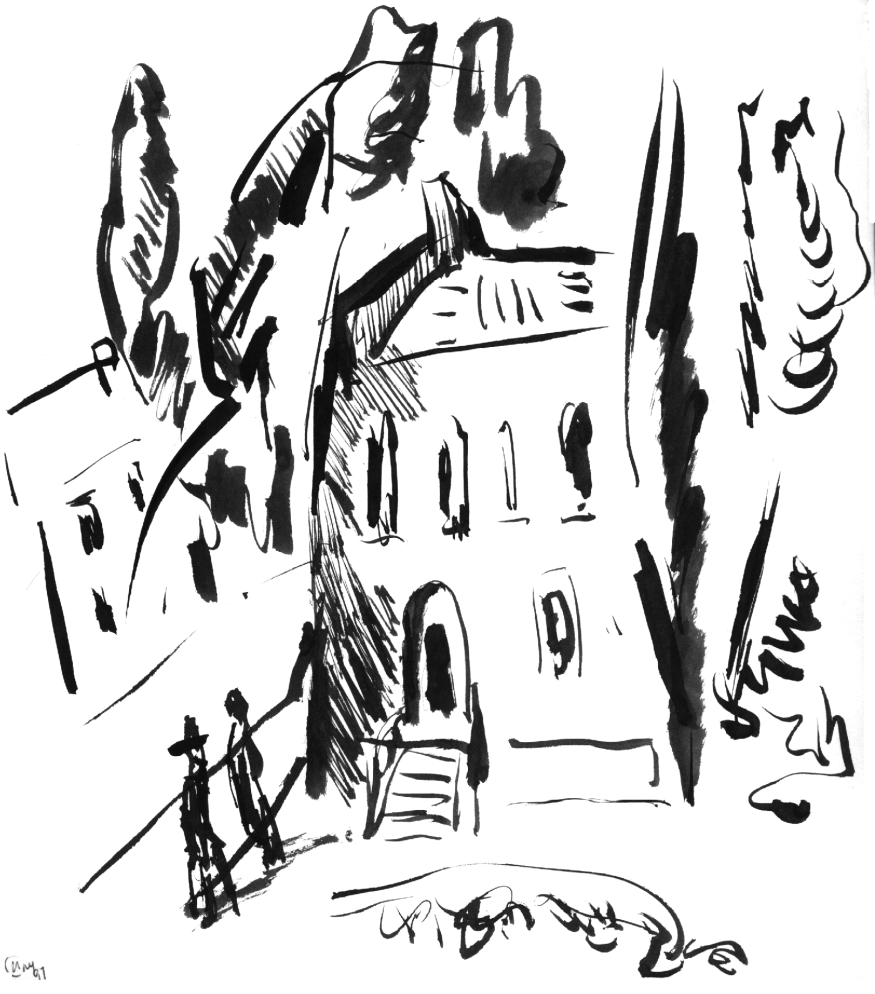УРИ-ЦВИ ГРИНБЕРГ
УРИ-ЦВИ ГРИНБЕРГ
1898-1981
***
На всех моих путях, простертых в мысли,
Печаль разлита золотом вечерним;
А прошлое мне видится вдали
Отрезанным, как остров...
Дальше - море.
Простерлись, перепутавшись, пути
Налево и направо. Я не знаю -
Каким идти. Но ясно лишь: ведет
Любой из них к черте последней, к смерти.
Варшава, 1921

***
Нас на этой земле
Столь одиноких,
Сотни тысяч.
Мы - для которых есть
Место в мире горестном,
Семь морей,
Простираясь, открыты нашему крику,
И от нашей боли, рвущейся из груди,
Содрогаются звезды.
Каждый из нас господин храма собственной плоти,
Голова любого из нас - башня радости, где
Раскачиваются колокола
Сумасшествия ночами терзаний.
Чистоте молитвенных сводов нашего сердца
Мы предпочли
Мировые кручи необузданных мыслей,
Те вершины,
Где уже не звучать голосам
Поющих девушек, и покоится страсть,
Перегоревшая в пепел.
Струны арфы там не дрожат,
И не сияет Геспер.
Только мертвенная луна
Отразилась в хищных рубинах
Волчьих глаз. И, головы обхватив,
Мы лежим с закушенными губами
У колодцев молчанья, покуда нас
Жутчайший из ужасов не разбудит...
Нам, карабкающимся на кручи,
Диким, воющим в темноту, -
Словно горные псы на скалах,
Ждать ли помощи от небес,
Что беременны сами скорбью,
И от страха черных ночей,
Обволакивающих вершины?!
Варшава-Берлин, 1922-23
ИЗ ПОЭМЫ “В ЦАРСТВЕ КРЕСТА”
Вы, преградившие нам к солнцу дорогу, идущих
Убиваете прежде, чем с ресниц успевает опасть
Сон золотой, и молитва рассвету - затихнуть.
Сотни тысяч бегут в лес отчаянья, и ноябрь
Из овечьих глаз полыхает
Остриями ножей, наточенных для закланья.
И под кронами горя рождаются дети,
Кровь которых отравлена скорбью, -
Чтобы увянуть раньше, чем розы.
Я для вас не желаю сажать плодоносных деревьев,
Но деревья страданья пусть раскинут голые ветви
В царстве креста.
На заре и под вечер на ваших башнях
Хищно раскачиваются колокола,
Чьи звериные пасти
Разрывают мою беззащитную плоть.
Я развешу на голых ветвях мертвецов,
Я оставлю их гнить без присмотра
Напоказ перед всеми светилами неба...
Словно в темный колодец, я падаю в ночь,
И мне снятся кресты, на которых распяты евреи,
Вижу: в окна ваших домов
Те евреи просунули головы и на иврите
Одичало и жалобно стонут: “айегу пилатус?” -
“Где Пилат?”... И не знаете вы,
Что пророчеством черным отравлен ваш сон,
Что терзает вас ужас - не знаете, ибо
Заставляют забыть с наступлением утра
То виденье церковные колокола.
Но пророчу: поднимется облачный столп
Наших горестных вздохов и тяжких стенаний
И войдет в вашу плоть
Не распознанным горем,
И по-прежнему будете вы болтать
Воспаленными ртами: евреи! евреи! -
В ту минуту, когда в омраченных дворцах
Закричат на идиш иконы.
Берлин, 1923
СОЗДАНИЕ - ЧЕЛОВЕК
И спросил я у старцев, увенчанных снегом седин:
“Что есть тайна рожденья и тайна забвения в смерти,
И подобные солнцу, восход и закат человека?”
Мудрецы, только что совершив омовенье
(Их тела чистотой лихорадило), умные лбы
Над священными книгами молча склоняли.
И когда запылали в тускнеющем мире
Ярким отблеском вечера окна домов,
И глаза мудрецов притянуло закатное небо
(Что горело, как мысли в моем вопрошавшем сознаньи), -
“О дитя мое, - каждый ответил, -
Много лет я исследую эти священные книги
И толкую их смысл.
О созданьи написано там: человек.
О делах его, мудрости, кознях, плохом и хорошем...
Вот, что сказано там о восходе его и закате: Возведенье дворцов, колокольный трезвон торжества, Смех в беспечные ночи и чудо хожденья по морю, Обживанье распахнутых взору пространств, Истребленье людей и проклятия небу, Низвержение в прах, превращение в пищу червей...”
И оставил я старцев с их книгами и обаяньем
Лунных бликов на лицах и ночью в глазах.
(Старцы в водах реки, я уверен, пошли окунуться)...
Догорело уже в городах человеческой скорби
Пламя окон. Лишь камень безумья сверкал
У меня в изголовье, когда я усталое тело
Бросил горестно в угол ночной.
Берлин, 1923
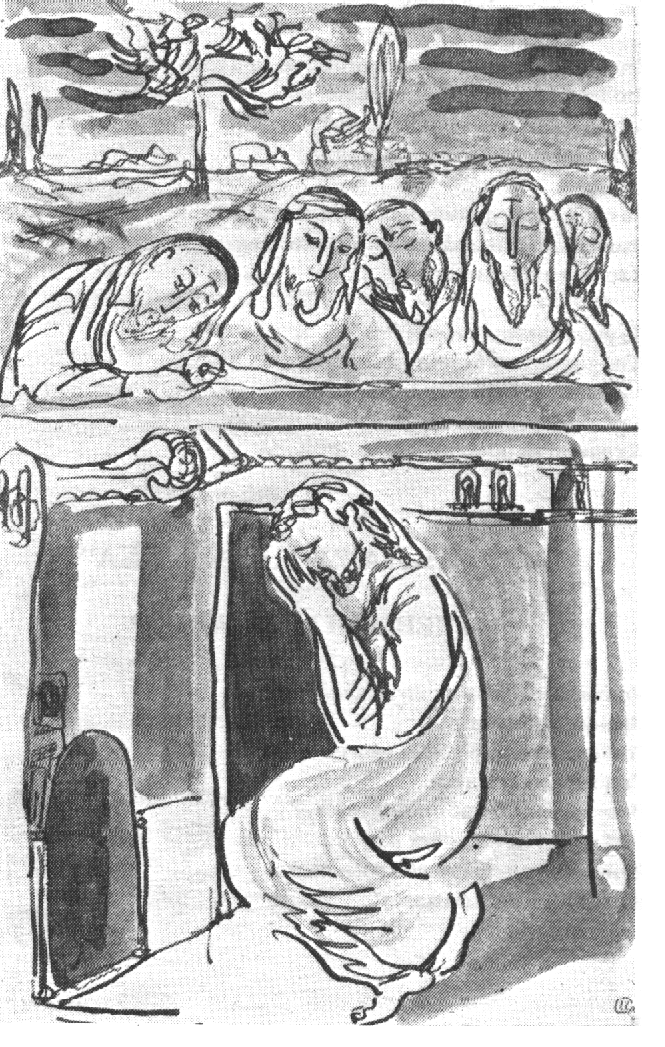
МУЧЕНИКИ МОЛЧАНИЯ
Моя мама святая в лунную ночь
Моему святому отцу
Говорит: “Когда родился наш сын,
Сверкала в окне луна.
И младенец, тотчас открыв глаза,
Посмотрел на нее; с тех пор
Лунный луч в сыновней крови поет
И блуждает в его стихах...”
Наполняла мятущаяся тоска
Отцовское сердце. Но
Колесница странствия у дверей
Не ждала отца. Потому
Глубину молитвы умел постичь
Он в музыке тишины
И любил смотреть на парящих птиц:
“Куда влечет их - летят...”
Но тоска моей мамы была впряжена
В колесницу странствия: путь
Через море лунной дорожкой вел
Маму ко мне в Сион...
Но не встретив сына у кромки волн
Ждущим на берегу,
Она, изнемогшая от пути,
Вернулась под грустный кров...
Мученики молчанья теперь -
Моя мама и мой отец.
Есть дорожка лунная на волнах...
И - единственный сын,
Остающийся в мире...
1951
У КРАЯ НЕБА
Как внимающие в дубраве Мамре
Вести благой Авраам и Сара,
И Давид с Вирсавией в первую ночь
Любви в покоях царского дома, -
Так мои святые отец и мать
Предстают над западным краем моря
И под тяжестью красоты
Ореола божественного сиянья
Опускаются медленно в глубину
Моря, туда, где дом их...
Стен у этого дома нет -
Он в-воде-из-воды построен.
И вплывают со всех сторон
В него утопленники Израиля,
И звезда у каждого на устах...
А о чем они говорят - не знает
Моя песня, ибо ведать о том
Суждено только им - кто в море...
Словно арфа, чей светлый напев погас,
Добрый сын, над временем возвышаюсь
Я, стоящий на берегу.
Входит вечер с закатным морем
В мое сердце...
И словно взор
Призван видеть у края неба
В ореоле солнца отца и мать
С двух сторон заходящей сферы:
Справа - он, и слева - она;
Их босые ступни обняв,
Под ногами пылает море...

СРЕДЬ ВОЮЮЩИХ ПРИЗРАКОВ
И вино, обманув, не веселит человека
Перед тем, как на ложе бросит он свое тело.
Его ночи в комнате сновидений -
Продолжение нестерпимых дней
Средь воюющих призраков...
Что ему делать
В толпах людей его поколенья, пьющих отраву
из языческих чаш? -
Души их помрачились, а он - сын благородный,
И его душа высока,
И в крови его отсвет эпохи Первого Храма,
Где ликует его народ, возвышающийся над врагом;
Может ли он, своим царям и князьям подобный,
Жить сегодня и уцелеть?
Нет, не отсюда откроются времена и пространства.
Не поймет и не будет понят, покуда песня его
Не зазвучит на чужих языках, и придел свой
он не покинет,
Чтобы одним дыханьем с чуждым миром дышать;
И его одежда, сшитая по законам
Своего поколенья, будет на нем древней,
Чем на муже, спустившемся с Галаада...
Вот, окунувшись, из Иордана он
Вышел и, бросив там свою ветхость, побрел, гонимый
Ветром времен и пространств... И внезапно здесь
Оказавшийся, озирается в страхе
Средь воюющих призраков,
Обступивших его...
ИЗ ПОЭМЫ “ДОЖДЛИВЫЕ ДНИ 1957 ГОДА”
Вот неспешно идет еврей в государстве еврейском.
Вечер, зелень деревьев с двух сторон песчаной дороги...
Прежде хаживал так еврей в Польше или в Литве -
Гойских странах - в осенней поблекшей одежде
Под крылами Шехины.
Ой, печальна была она, как голубица
Между нечистыми птицами, что ненавистью полны,
Наша добрая, милостивая Шехина!
Так прохаживается еврей, восклицая мысленно:
“Бог мой!
Вот бы в лазурном празднике чуда через море сюда
Все местечки смогли убежать вместе с сутолокой
еврейской:
Люди из вышнего мира, заучивающие нараспев;
Мелочь птичья, принцы без царства, еловая молодежь,
Сочно-ветвистая, будоражители вселенной,
Бунтари, способные строить и защищать;
Натрудившиеся сучковатые люди и неудачливые купцы,
Те, что долгие годы сохнут по доброй вести;
Знатоки мировых широт и глубин, служители мысли,
У которых нет под ногами собственной почвы, чтобы
творить...
Эх, местечки с ландшафтами их, деревьями и цветами,
Синевой и зноем небесных вод...
Миллионы теплых евреев с буднями и всем тарарамом,
Себе под нос напевающих “баби-бам”,
С субботне-праздничным их переходом-
к-Богу-благословен-Он!
Прилепились бы здесь к Яффе и Ашкелону, Кармиэлю и
Цфату, став
Периферией, полной любви к короне нашей -
Иерусалиму!
Бог мой! Увы, почему этого нет?
Что значит - нет? Почему этого нет?..”
1957